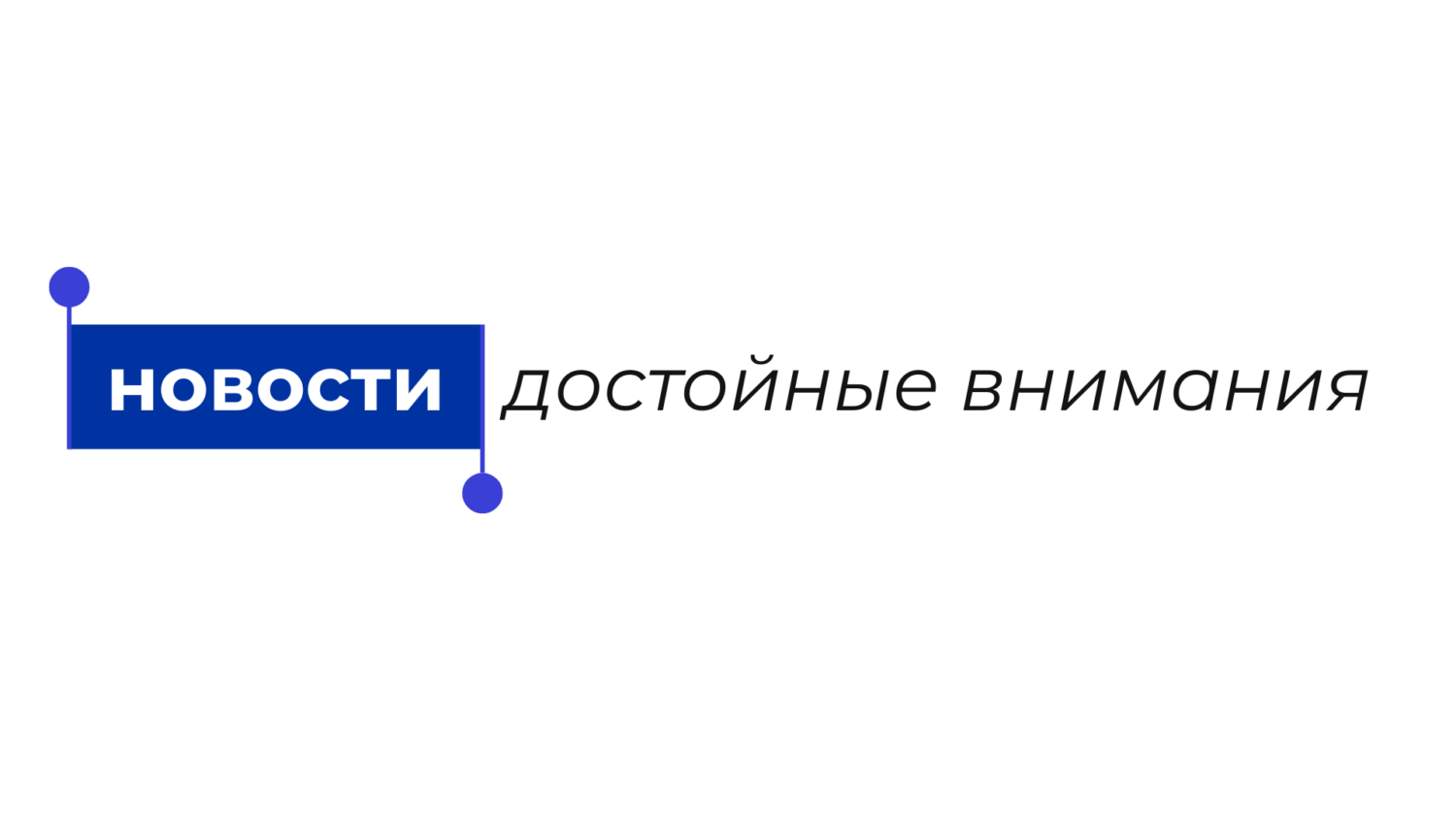Мы часто говорим о том, как современное искусство осмысляет актуальные проблемы. Но на этом фоне артефакты культуры прошлого, непонятые современниками, тоже раскрываться могут совершенно иначе. «Нож» рассказывает, почему рассказ Леонида Андреева «Стена», написанный 124 года назад, переносит нас в цифровую антиутопию.
Дореволюционный боди-хоррор
Боди-хоррор снова набирает популярность (взять хотя бы ошеломительный успех «Субстанции»). Жанр развивается, и под личиной кровавого ужастика часто скрывает глубокую рефлексию наших страхов: утраты контроля над телом, разложения личности.
Боди-хоррор стал не просто развлечением — он превратился в язык, на котором мы говорим о кризисе идентичности. Когда нейросети рисуют наши лица, а биотехнологии обещают бессмертие, чудовища больше не прячутся за киноэкранами — они живут в наших смартфонах.

Леонид Андреев предсказал многие тренды и вместил в пять страниц своего рассказа «Стена» (1901 г.) ряд образов, актуальных по сей день. Сюжет здесь играет второстепенную роль, становясь лишь поводом для гротеска и метафор: истощённые, изувеченные люди бесцельно существуют у каменной стены, умоляя её о смерти и взывая к ней как к высшему существу.
Сегодня «Стена» могла бы стать потерянным где-то в интернете файлом смерти — с полигональными моделями людей, черно-красным градиентом вместо ландшафта и стеной-монолитом, лишённой деталей.
Текст изобилует вычурной жестокостью. Вот как выглядит вступительный эпизод, задающий тон:
— Ну, тогда сломаем её! — предложил прокажённый.— Сломаем! — согласился я. Мы ударились грудями о стену, и она окрасилась кровью наших ран, но осталась глухой и неподвижной. И мы впали в отчаяние.— Убейте нас! Убейте нас! — стонали мы и ползли, но все лица с гадливостью отворачивались от нас, и мы видели одни спины, содрогавшиеся от глубокого отвращения.
Если бы «Стену» адаптировали сегодня, режиссёр вроде Корали Фаржа («Субстанция») или Жюли Дюкорно («Титан») превратил бы её в визуальную пытку. Камера крупно показала бы руки, стирающиеся в кровь о камень, тела, покрытые язвами, лица, искажённые бессилием.
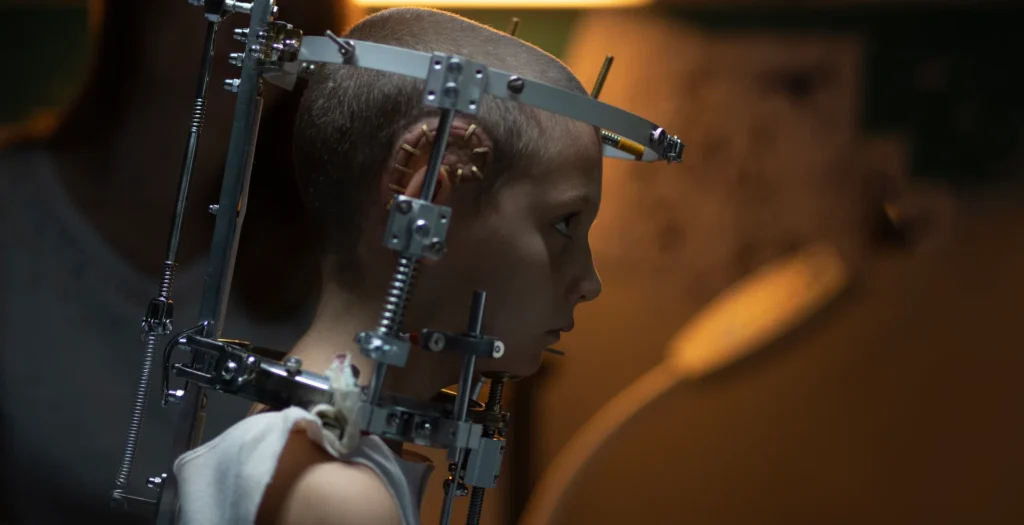
Боди-хоррор здесь — не про мутации, а про распад человеческого. Герои теряют кожу, зубы, рассудок, но продолжают биться. Это физиология отчаяния.
Современные технологии подчеркнули бы, как плоть слипается с камнем, а кости трескаются от ударов. Главный спецэффект — звук: скрип ногтей, хриплое дыхание, монотонный стук. Ни музыки, ни диалогов — только шум тления.
Скримера не будет
В классическом хорроре зрителя пугают скримерами — внезапными прыжками монстра. Но Андрееву не нужны трюки. Его стена страшнее, потому что она не реагирует. Она не злая, не живая, не разумная. Она — ничто. Персонажи кричат: «Зачем ты стоишь?», но ответом становится лишь эхо.
Этот приём позже использовали в поп-культуре: играх серии Metroid или франшизе «Чужой». Самый жуткий враг — тишина. В «Стене» Андреев довёл принцип до предела: ужас не в действии, а в отсутствии реакции. Писатель говорил, что стена символизирует всё, что мешает «новой совершенной жизни».
Бога здесь нет. Сила, диктующая страдания, — это эхо собственной тщетности. Алгоритмы соцсетей работают так же. Они не злятся, не смеются — они поглощают время и внимание, подчиняя мышление. Люди видят кошмар в своем отражении.
Гипотеза мёртвого интернета в 1901 г.
В 2021 году заговорили о «гипотезе мёртвого интернета»: большая часть контента создаётся ботами и нейросетями. Лайки, комментарии, репосты — имитация жизни. Люди становятся бездушными актёрами в театре алгоритмов.

Перечитывая «Стену» сейчас, ощущаешь родство с болью её героев. Прокажённые из текста — словно мы, теряющие идентичность в цифровом гетто, превращаясь в функции бесконечного цикла потребления. Боты генерируют brain-rot изображения, боты комментируют их, миллионы бессмысленных роликов распространяются нейросетями. Создание контента теряет смысл.
Андреев писал:
У нас не было времени, ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Ночь никогда не уходила… Оттого она была всегда усталая, задыхающаяся и угрюмая. Злая она была. Тогда все мы молили:— Убей нас! Но, умирая каждую секунду, мы были бессмертны, как боги.
Цифровой капитализм и инфернальные аллюзии
В тексте есть сцены, напоминающие реалии цифрового капитализма:
— Мы будем торговать камнями, которые падают со стены.— А дети?— А детей мы будем убивать.

ассуждая в таком ключе, вспоминаются теории о том, что библейский Лже-пророк (антихрист) похож на нейросети, способные заполонить интернет и манипулировать людьми. «Стена» заставляет задуматься: не окажемся ли мы в бесконечном стриме страданий? Кто станет тем прокажённым, который крикнет:
— Убийца! Отдай мне самого меня!
Инструкция: как читать «Стену» в 2025?
Откройте рассказ на смартфоне. Прочтите. Посмотрите на экран. Алгоритмы уже анализируют вашу реакцию: как долго вы читали, какие слова выделили. Через час они предложат рекламу мазей от экземы или курс по борьбе с прокрастинацией.
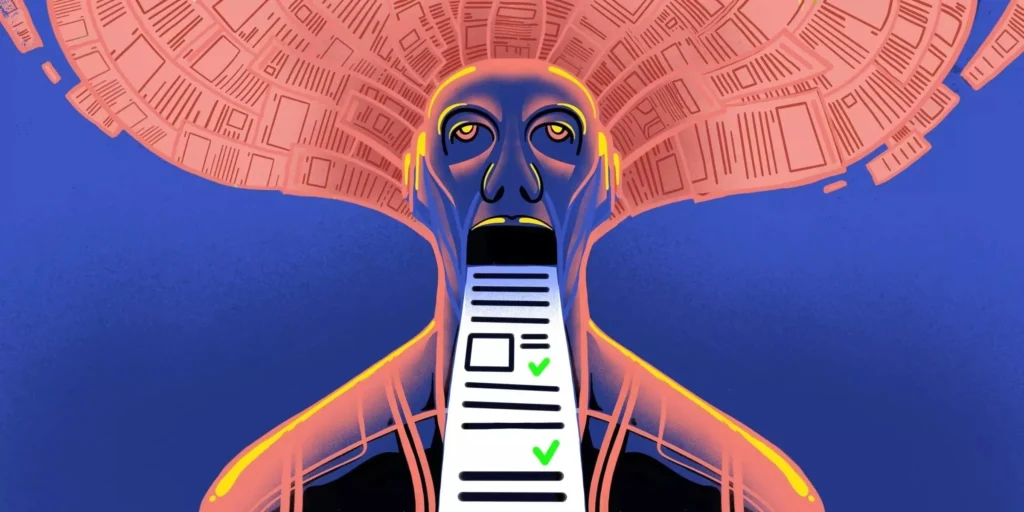
Андреев сказал бы: «Бейтесь». Но не о стену — о право оставаться живым за её пределами. Напишите стихотворение в заметках. Выключите Wi-Fi. Это ваш бунт. Бессмысленный. Прекрасный. Или репостните эту статью себе на стену — пусть алгоритмы запомнят и это.
Для тех, кто чувствует стену, мои объяснения не нужны, а тем, кто стены не чувствует или торгует её камнями, мои объяснения не помогут.
Леонид Андреев